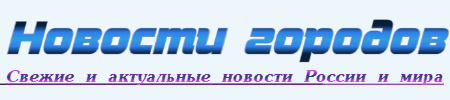По ту сторону органных труб

Вид на «рюкпозитив» – фронтальную часть органа Калининградской филармонии. Фото автора.
В концертных залах и старинных соборах, где каждый звук органа отзывается многоголосым эхом, скрывается особая магия. Но мало кто задумывается о том, что за этими величественными инструментами стоит целая армия талантливых мастеров, чья работа остаётся в тени концертных огней, публичного признания и аплодисментов.
Орган – не просто музыкальный инструмент, а настоящее произведение инженерного искусства, требующее постоянного внимания и заботы. Мастера по обслуживанию органов – уникальные специалисты, сочетающие в себе талант музыканта и навыки инженера. Они способны не только поддерживать инструмент в идеальном состоянии, но и чувствовать его «душу», каждую ноту, каждый регистр и каждую трубу.
Их работа – кропотливый труд, требующий глубоких знаний акустики, механики и даже физики. Каждый день они сталкиваются с новыми вызовами: от настройки сотен труб до восстановления сложнейших механизмов. Это не просто техническое обслуживание, а настоящее искусство, без которого невозможно представить существование органа как музыкального инструмента.
Мы обратились к органному мастеру, инженеру Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова – Андрею Качуре, пообщавшись с ним на дежурстве в ходе XIV Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и по его окончании.

Органный мастер Калининградской филармонии – Андрей Качура. Фото автора.
— Как вы стали органным мастером, и кто был вашим учителем?
— Это случилось довольно неожиданно в 2004 году. Я долгое время посещал филармонию, занимался музыкой, интересовался музыкальными инструментами, изучил всю доступную литературу на русском языке. По стечению обстоятельств судьба свела меня с Михаилом Корнеевым, который и стал моим наставником. С тех пор я начал постигать азы этой профессии.
— Если совсем кратко, расскажите об общих принципах вашей работы.
— Работа с органом – это всегда процесс самообразования, ведь в мире не существует двух абсолютно одинаковых инструментов. Каждый из них уникален своей конструкцией и звучанием, поэтому использование каких-то готовых шаблонов невозможно. Меня сразу же рассказали о сложившихся традициях ухода за органом нашей филармонии. Эти знания мой учитель также перенял у своего предшественника. Чем больше опыта накоплено в обслуживании конкретного инструмента, тем дольше он служит. Это как с автомобилем, который находится в одних заботливых руках. Именно поэтому каждому исполнителю я непременно объясняю основные правила работы с нашим органом. Прежде всего речь идёт о лимите времени игры. Например, через два часа небольшая фронтальная часть органа – «рюкпозитив», внешне похожая на крылья, перестаёт играть созвучно с основной частью инструмента. Это неизбежно влияет на тембр, многообразие звуков и, конечно, требует тщательной настройки.
Также я категорически запрещаю использовать ластик для удаления записей в нотах, потому что образовавшиеся кусочки бумаги могут попасть внутрь механизма клавиатур – «мануалов» и вызвать сбои в их работе. А мануалы устроены таким образом, что их механизм можно починить лишь после полного демонтажа органа. Также запрещаю касаться руками труб, поскольку тепло меняет их температуру, а, следовательно, и звучание. К счастью, во время конкурса мне удалось избежать этих сложностей.
— Из каких основных частей состоит орган Калининградской филармонии?
— Их много. У нашего инструмента три клавиатуры и педальная часть. Каждая клавиатура управляет отдельным органом, под который выделен целый этаж здания. Если не вдаваться в детали, звук формируется тысячами труб, длина которых – от нескольких сантиметров до нескольких метров. Они изготовлены из дерева и металла в процентном соотношении олова и свинца. Также используется специальное приспособление, именуемое «швеллер», позволяющее менять их громкость.

Общий вид органа Калининградской филармонии. Фото автора.
— Вы настраиваете орган на слух или пользуетесь какими-то инструментами?
— Всё зависит от конкретной задачи, но чаще всего настройка делается на слух. Мастера ориентируются не столько на конкретные частоты, сколько на их соотношение. Если есть сомнения в точности настройки, используется специальный измерительный прибор. Настройка органа – это тоже искусство, сравнимое с ювелирным делом, но только здесь недопустимы ошибки – большая часть которых необратима.
— Какие самые распространённые поломки происходят у органов?
— У нашего инструмента они встречаются крайне редко. Но иногда приезжают пианисты, великолепно владеющие фортепианной техникой, однако слабо понимающие особенности прикосновения к клавишам органа – «туше». Из-за неправильной техники повреждаются детали инструмента вплоть до срезания резьбы на регулировочных винтах.
— Чем отличаются современные органы от исторических? Существует ли поступательная эволюция в их разработке и производстве?
— Сложный вопрос, а может, и тема для отдельной диссертации. Лучшие старинные инструменты, которые я когда-либо слышал, строились как единое целое с помещением, служившим своего рода гигантским резонатором, обогащавшим звук.
Современные инструменты напоминают «конструктор» или «супермаркет» звуков, где можно найти буквально всё, однако отсутствует целостность, самодостаточность и органическое единство. Как бы ни старался музыкант, значительная часть современных органов не способна передать те чувства, эмоции и торжество духа, которые мы так ценим и ищем в органной музыке.
— Каковы основные отличия между органом филармонии и органом в Кафедральном соборе на острове Канта?
— Все отличия перечислить невозможно. Это совершенно разные инструменты по конструкции и звучанию. Например, орган собора оснащён памятью музыкальных регистров, благодаря чему музыкант может отказаться от помощи переключающего их ассистента. Клавиши его мануалов более чувствительны к прикосновению. Могу лишь сказать, что оба инструмента потрясающие, обладают своей особой душой и ярким характером. Кстати, за инструмент в кафедральном соборе отвечает мой коллега, титулярный органист Мансур Юсупов, который тоже когда-то становился лауреатом данного конкурса.
— Правда ли, что многие люди не переносят звучание органа? Я слышал, что инфранизкие частоты негативно влияют на сердце. Кто-то утверждает, что не может его слушать более 20–30 минут.
— Орган неслучайно был введен в церковь, поскольку особым образом воздействует на сознание и физиологию человека. Это связано с мощными вибрациями, которые излучает инструмент. Колеблются не только барабанные перепонки, но и внутренние органы тела. Все они имеют разную резонансную частоту и могут по-разному реагировать на вибрации. Некоторые слушатели в какой-то момент могут начать испытывать дискомфорт или даже панику. С другой стороны, есть пожилые люди, которые проводят у нас целый день.

Изображение сгенерировано автором при поддержке системы искусственного интеллекта.
— Я слышал, что орган в себя либо «впускает», либо не впускает музыканта.
— Очень глубокий вопрос. Орган всегда «отвечает» на чувства и мысли исполнителя. Эта тема проходит через всю историю органной культуры. Бывает, приезжает известный органист и не понимает, что происходит. Инструмент начинает вести себя более чем странно. Перестают включаться отдельные регистры. Играю сам – всё замечательно, садится другой человек – возникают мистические проблемы. Возможно, это реакция на душевное состояние человека. Уходит музыкант – и проблема сразу исчезает. Очень важно, чтобы исполнитель понимал, какой инструмент перед ним и умел им пользоваться. Думаю, этим мастерством в полной мере овладел победитель нынешнего конкурса – корейский музыкант Сунхён Пак.
— Какие еще метафизические казусы бывают в вашем деле?
— Для меня орган, прежде всего, – физический прибор, поэтому всё, что с ним случается, я пытаюсь объяснить рационально. Поменялась температура воздуха, влажность – изменилось и звучание инструмента, его строй. Порой приходится становиться настоящим цербером. Например, ругаться с грузчиками, которые привозят аппаратуру и вовремя не закрывают двери зала. Зимой иногда отключают отопление, и температура падает до восьми градусов. Тогда забота об инструменте становится особенно важной. Откройте учебники по органостроению конца XIX или начала XX века – там найдете те же самые советы.
— А были ли в вашей практике мистические случаи?
— Да, конечно. Однажды ночью я настраивал орган. Филармония была заперта на замок, и кроме меня и дремавшей сотрудницы охраны в здании больше никого не было. И вдруг ясно почувствовал, будто кто-то внимательно смотрит мне в спину. Продолжал играть, не оборачиваясь, и когда закончил, раздался звук – захлопнулось кресло в пустом зале. Этого звука я, признаться, терпеть не могу. Обернулся – в зале пусто. Представляю себе, какие чувства испытала моя коллега по работе после рассказанной ей истории.

Изображение сгенерировано автором при поддержке системы искусственного интеллекта.
— Насколько я знаю, органу филармонии не более пятидесяти лет. Кто из известных музыкантов впервые на нём сыграл и посчастливилось ли вам быть свидетелем этого события?
— Считается, что наш орган «крестил» знаменитый органист Гарри Яковлевич Гродберг, отыгравший на нём первый публичный концерт. Мне посчастливилось выступать в качестве его ассистента. Как человек и музыкант он оставил совершенно неизгладимое впечатление.
— Когда Вы узнали о проведении конкурса и какой комплекс работ пришлось выполнить для подготовки инструмента к выступлению участников?
— Второй тур традиционно проходит у нас, поэтому я загодя начинаю необходимую для него подготовку и профилактику. Наша филармония – огромный коллектив, где много солистов и два значимых оркестра. Найти зазор по времени для работы с органом – большая проблема, поэтому я старался максимально использовать отпущенное мне время для настройки и звучания в перерывах между выступлениями других коллективов. Благодаря конкурсу мне удалось произвести необходимые работы и даже осуществить подготовку к следующему сезону.
— Какие впечатления у вас оставил конкурс и какой опыт привнёс?
— Все конкурсанты очень разные. Требования старинных и современных произведений довольно сложные, порой взаимоисключающие. Иногда нужна очень высокая скорость срабатывания клавиш, но у нас по большей части механический инструмент, где клавиши нажимаются с некоторым усилием к которому надо привыкнуть. К началу конкурса каждый музыкант уже располагал всей полнотой данных о технических характеристиках нашего органа и органа Кафедрального собора на острове Канта. Разумеется, конкурсанты подбирали программу выступления, исходя из этих особенностей, что в свою очередь подтверждает член жюри Даниель Зарецкий. В частности, это касается выбранных участниками произведений Микаэла Таривердиева. Я остро чувствую разницу между тем, как они звучат в исполнении иностранных конкурсантов и наших, вкладывающих в них много личного. В исполнении россиян они особенно искренны и проникновенны.
— В чём основные отличия конкурса от концертного выступления?
— Понимаете, конкурс органистов – не просто концерт, который предназначен для слушателей. Некоторые исполнители играют так, что я не узнаю наш инструмент. Мы не знаем, как играл Иоганн Себастьян Бах, но после выступления некоторых конкурсантов создаётся впечатление, что конкретное произведение может звучать только так и никак иначе. Со многими участниками я знаком лично на протяжении многих лет. Обратил внимание, как от года к году они меняются в профессиональном и личностном плане. Из волнующихся юношей и девушек они становятся зрелыми, профессиональными музыкантами, спокойно и уверенно отыгрывающими программу выступлений на очень высоком уровне. Скажу больше, у них формируется другое музыкальное мышление.
— В моём представлении, то, что вы делаете – это, скорее, служение.
— Без лишнего пафоса, действительно так. Личного времени у меня практически нет. Органист может приехать когда угодно, даже ночью. Если я не занят непосредственно ремонтом инструмента, то иногда приходится ехать через весь город, дабы успокоить музыканта, сообщив ему, что всё в порядке и беспокоиться перед выступлением не стоит.
Знаете, со стороны часто бытует мнение, будто органный мастер вообще ничего не делает, однако именно в этом и состоит суть нашей профессии: мы выполняем свою работу настолько качественно, чтобы о нас никто не вспоминал.
— Какие качества необходимы органному мастеру, чтобы успешно справляться со своей работой?
— Прежде всего спокойствие, рассудительность, любовь к музыке и своему делу.
Поделиться
Поделиться