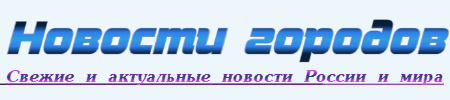Не театральная роль Глеба Котельникова

Человек всегда желал покорить небо. Сначала — взлетать в него. Затем — парить в нём, как птица. И уж потом — удачно возвращаться на землю.
Сложнее всего в реальности было как раз исполнение последнего: удачного приземления человека на земную твердь. Особенно — в ситуациях экстремальных. Но человеческий разум справился с этой трудной задачей и, что отрадно, решил её не профессиональный авиатор, но… драматический русский актёр Глеб Котельников.
«Жизнь — это театр. А люди в нём актёры…»
Эту фразу Шекспира артист известного дореволюционного питерского театра «Народный дом» Глеб Евгеньевич Котельников воспринимал вовсе не как метафору, но скорее — как некое житейское руководство.
К тому его располагал и личный жизненный опыт: учеба в юнкерском училище, военная служба в царской артиллерии, выход в отставку и успешная карьера чиновника. При этом Глеб, как потомственный дворянин, родившийся в семье талантливого механика и учёного-математика Евгения Котельникова, получил и блестящее общее образование: владел языками, прекрасно играл на скрипке, очень неплохо пел, увлекался техникой и фотографией, любил играть в домашнем театре. Очень много времени юноша проводил и вместе с отцом, наблюдая за его опытами в области механики. В конечном итоге из всего многообразия собственных способностей Глеб… выбрал сцену, блестяще в 1905 году сыграв в любительском театре роль Сатина в пьесе «На дне». Его заметили и пригласили уже на профессиональную сцену в труппу «Народного дома». Так вчерашний юнкер, офицер, чиновник и просто всесторонне развитый человек стал и профессиональным актёром.
Положение в дворянском обществе обязывало его бывать на многих зрелищных мероприятиях, коих в стремительно развивающейся России помимо театра было предостаточно. В сентябре 1910 года таковым стал и Всероссийский праздник воздухоплавания, куда Котельников был приглашён вместе с супругой-художницей. Именно там они стали свидетелями жуткой трагедии: самолёт авиатора Льва Мациевича внезапно на глазах многочисленных зрителей начал разрушаться прямо в воздухе. Судьба ничем не защищённого в те времена летчика, увы, была предрешена: Лев Мациевич, упавший на землю с высоты почти 500 метров, трагически погиб…
Увиденное потрясло всех. Особенно — впечатлительного Глеба Котельникова. По дороге домой он несколько раз сокрушённо произносил одну и ту же фразу: «Этого не должно было случиться!» Дома сразу прошёл к себе в кабинет, наказав супруге и сыну его не беспокоить.
— «…Гибель молодого летчика настолько потрясла меня, что я решил во что бы то ни стало построить прибор, предохраняющий жизнь пилота от смертельной опасности», — записал в те дни в своем дневнике Глеб Котельников.
И ведь создал то, что сегодня называется «парашютом»! Не зря в России утверждают, что талантливый человек талантлив во всём: на помощь пришли и совместные с отцом опыты по механике, и углублённые познания математики, и муштра в учебных артиллерийских классах училища. Но главное, что всё это объединило в одном человеке и привело Котельникова к феноменальному успеху: вера в свои силы и неистовое желание помочь людям в экстремальной борьбе с необузданной стихией выходить из неё победителями. Единственное, чего не смог предусмотреть сам Глеб Евгеньевич — это того, что его дорога к победному личному финишу будет весьма и весьма трудной…
Спасайте, кто может!
Уж если быть абсолютным аскетом в исторических нюансах, то стоит заметить, что идея создания устройства, с помощью которого человек мог бы спускаться с высоты на землю без иной помощи, принадлежала ещё великому Леонардо да Винчи. Среди его рисунков исследователи находили наброски некой четырёхугольной конструкции в виде палатки, которую учёный предлагал как раз для этой цели. Невероятно: человечество ещё даже не мыслило хоть каким-либо способом отрываться от Земли, а Леонардо уже разрабатывал безопасный способ приземления на неё! Великие велики во всём?
После долгих раздумий и математических расчётов Глеб Котельников, изучавший к тому же и всю литературу о подобных экспериментах, приходит к идее создания парашюта собственной конструкции в виде ранца, прикреплённого крепёжными ремнями к телу авиатора.
Внутрь он предлагал поместить сложенный определённым образом объёмный шёлковый купол, к которому должны были крепиться раздельные стропы. В нужную минуту мощные пружины после того, как летчик дёрнет за кольцо, соединённое ремнями с пружинами, вытолкнут купол наружу под встречный поток воздуха, которым он наполнится и станет естественным безопасным тормозом для самого пилота. Осталось, казалось бы, самое малое: «пробить идею» в военном министерстве, получить нужное финансирование и начать работы. Но именно с этой минуты перед изобретателем стали возникать мощные бюрократические барьеры императорской чиновничьей рати, которая в жизни оказалась куда как мощнее даже всей российской армии.
Через различных министерских референтов и чиновников Котельников направляет подробное письмо на имя военного министра В. Сухомлинова. После долгого блуждания в ведомственных коридорах, обросши многочисленными осторожными визами «На Ваше рассмотрение», депеша легла на стол аж Великого князя Александра Михайловича, курировавшего в те годы военную авиацию.
Князь, уделявший гораздо больше внимания бегам и балеринам, нежели собственно авиации, собственноручно на прошении начертал: «…Парашюты в авиации — вещь вредная. Лётчики при малейшей грозящей им опасности будут спасаться на парашютах, предоставляя самолёты гибели. Машины дороже людей. Мы ввозим машины из-за границы, их стоит беречь. А люди найдутся — не те, так другие!» М-да…
Скорее всего, таковую резолюцию куратору российской авиации подсказали лампасные чиновники Главного инженерного управления, которое в том числе и занималось той самой закупкой иностранных авиеток и запчастей к ним. Да, «откаты» — вещь стойкая и имеющая многолетнюю историю!
Уверены, что предусмотреть их не мог бы и Леонардо да Винчи. (Если бы смог, то непременно предложил бы и способы борьбы с этой шуршащей инфекцией. Глядишь, и в нашем оборонном синдикате не было бы столь масштабных и позорных арестов — авт.)
Котельников понял, что остаётся со своей идеей «один на один». Его ободряли близкие, друзья, коллеги по сцене. Но слова поддержки были бы хоть утешительными, но бесплатными, а на создание и испытание парашюта были нужны очень большие и реальные деньги. Помощь, как в традиционных русских сказках, пришла неожиданно и вовсе не от военных…
Слово твёрдое. Купеческое!
Слухи о русском актёре Котельникове, придумавшем доселе неслыханное чудо: «парашют», дошли до российского купечества, социалистическим агитпромом подаваемого нам лишь в статусе «пузатых самодуров и гуляк». Изучив предложение Котельникова, питерское «Товарищество В. А. Ломач и К°» однозначно решило финансировать проект. Точкой в принятии такого решения стала отнюдь не возможная будущая финансовая прибыль (о которой ни сам изобретатель, ни глава фирмы купец 1-й гильдии Вильгельм Ломач не думали), но исключительно желание «утереть нос» Европе, где параллельно с Россией тоже торопливо шли подобные экспериментальные работы.
Более того, Ломач, уже занимавшийся до того закупкой и продажей тех самых авиеток для нужд российской армии, конечно, знал все теневые правила игры и в самом Главном инженерном управлении, которое формально курировал Великий князь, отказавший Котельникову. После недолгих переговоров Вильгельм Августович Ломач, конечно, получил необходимое разрешение для продолжения работ Котельниковым. Во сколько оно обошлось ему самому, меценат, конечно, промолчал: «однова живём?» Так или иначе, но летом 1912 года в поле близ деревни Салюзи близ Гатчины Котельников в окружении свиты генералов, чиновников, промышленников и журналистов провёл свой первый эксперимент по практическому применению парашюта.
Будь здоров, «Иван Иваныч»!
Со специального аэростата на высоте 250 метров был сброшен искусственный манекен, имитирующий реального человека, к которому крепился ранцевый парашют Котельникова, и которого сам изобретатель окрестил «Иван Иванычем».
Собравшиеся внизу скептики (куда же без них?) включили секундомеры на своих хронометрах: одна секунда, вторая… Парашют не раскрывался. …Третья… «Иван Иваныч» стремительно и обречённо летел к земле. …Четвёртая. В ту же секунду ранец сработал, раскрыв спасительный шёлковый купол (который изобретатель вместе с женой сшивали дома вручную!) «Иван Иванович» благополучно шмякнулся о землю. Скептики разочарованно убрали секундомеры. Репортёры бросились в редакцию.
На следующий день Россия узнала о сенсации. Авиаторы, до того поднимавшиеся в воздух с иконками на приборном щите, приободрились и воспряли духом, но…
Оскорблённые скептики в лампасах из Главного инженерного управления приобретать ни права на изобретение Котельникова, ни, тем более, — запускать изделие в серию не спешили. Возможно, не увидели в этом своей личной выгоды, а может, просто из-за того, что в ближайшем окружении самого Николая II в те времена было полным-полно тех, кого сегодня вполне официально называют «иноагентами» (Сталин их потом назвал «вредителями» и велел ставить к стенке. Сначала — их самих. Затем — тех, кто и ставил к стенке. Но, видимо, не всех… Впрочем, это уже другая история).
В 1912 году в Париже проходил международный конкурс изобретателей аналогичного спасательного воздушного средства. Вильгельм Ломач с разрешения Котельникова зарегистрировал участие его изобретения на этом мероприятии: сам Глеб Евгеньевич по ряду причин поехать во Францию не смог, его парашют представлял именно Вильгельм Ломач.
В рамках этой компании 5 января 1913 года студент Петербургской консерватории Владимир Оссовский согласился войти в историю как первый человек, рискнувший на себе испытать работу неведомого парашюта (какая-то мистика: изобрёл актёр, профинансировал купец, успешно испытал студент-музыкант, признал Запад…).
Признать-то признал, но и тут же успел в эту бочку мёда изрядно России нагадить: главный приз конкурса получил не Котельников, но… француз Фредерик Бонне, который представил на рассмотрение комиссии весьма спорное и громоздкое устройство, которое к тому же крепилось не к телу летчика, но… к корпусу самого самолёта. Видимо, поэтому лишь парижскими испытаниями изобретение Бонне и ограничилось: в серию французское военное ведомство брать его не стало. А может, и потому, что ещё с позорной авантюры Наполеона Франция люто ненавидела Россию, что передалось и её нынешнему гендерозависимому управленцу Макрону. Впрочем, «собака лает — караван идёт…»
Пока в российских ведомственных коридорах изобретение Котельникова в виде очередных докладных «слушали-постановили» переходило из кабинета в кабинет, на Западе его шустро и по-пиратски запустили в производство. Что-то доработали, что-то убавили-добавили, «скромно» назвали изобретение не российским, но исключительно — западным и начали грести на нём бабки. Что-что, а воровать не только чужие деньги, но и идеи Запад умеет профессионально!
Россия тем временем вступила в Первую мировую войну, где хоть на том примитивном уровне, но авиация была востребована вполне успешно. Но самолёты сбивали даже из простых винтовок, они падали, лётчики гибли. Мрачное предсказание Великого князя о том, что «… и другие люди найдутся», не сработало: гибли и «те», и «другие».
В той позорной войне нашлось место и Глебу Котельникову: его призвали в действующую армию, но лишь… в качестве офицера-порученца в автомобильные части. В боях не участвовал. Служил. Правда, умудрился настоять на производстве небольшой партии своих парашютов. Изготовили всего 75 экземпляров, но тут случился позорный мир, и парашюты так и остались бесхозным грузом на военном складе. А там и «Аврора» рявкнула своё слово в истории России.
Жизнь и смерть по-советски
Котельников с семьёй обосновался в Ленинграде. Удивительно, но новая власть ни тогда, ни позднее — в 30-х годах — не решила припоминать ему ни дворянской родословной, ни службы в царской армии. Уцелел практически чудом.
В новой жизни продолжал изобретать новые модели парашютов, а в 1926 году все свои права на изобретённое срочно передал новой власти. Конечно, добровольно…
Продолжал играть на сцене. Писал книги, учил студентов. В январе 1944 года о нём вспомнили (видимо, потому, что его парашюты во время войны спасли жизни тысячам наших лётчиков) и наградили орденом Красной Звезды. В ноябре того же года великий изобретатель Глеб Евгеньевич Котельников скончался. Его с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище, хоть за это спасибо!
P.S.
Память
Около могилы Глеба Котельникова растут деревья, на которые и советские, и российские парашютисты почти ритуально в день его похорон привязывают специальные разноцветные ленточки, которые используют в парашютах в качестве затяжных креплений.
Сами парашютисты именуют их по-домашнему уютно «тявочками».
Действительно, мило и трогательно. Но только специалисты знают, сколько человеческих жизней в тяжелейших и трагических ситуациях спасли в том числе и эти «забавные» ленточки. Поэтому и помнят Глеба Котельникова.
Поделиться
Поделиться